- Головна
- /
- Статті
- /
- Школа здоров'я
- /
- Слово об alma mater, учителях и мудрых предшественниках
Слово об alma mater, учителях и мудрых предшественниках

Из многих документальных свидетельств, приуроченных к 100-летию института, выделю сведения о высокой награде, торжественных заседаниях, научных конференциях. Трудно преодолеть желание пополнить заметки свидетельствами конкретных лиц, кому события давних лет известны не понаслышке, а от их непосредственных участников.
Продолжение. Начало в № 140.
Я уже писал о том, что бывших студентов, учившихся в военные годы в Челябинске, можно сегодня сосчитать по пальцам. Все меньше становится и тех, кто мог бы рассказать о первых послевоенных годах в качестве и очевидца, и участника тех непростых рабочих будней становления мирного труда, начала самостоятельной деятельности.
Памятные имена
Представляя вниманию читателя давние юбилейные публикации и называя в связи с этим памятные события и памятные имена своих учителей, хотелось бы подробно рассказать о каждом из них. Однако реализовать подобное в рамках одной публикации не представляется возможным, поэтому ограничусь краткими очерками, эссе, в центре которых наиболее впечатлившие меня колоритные преподаватели-медики, имена которых, несомненно, широко известны врачебной общественности не только в Украине.
Я смотрю на фотографии из альбомов выпускников института послевоенных лет и возвращаюсь мыслями в Киев и Челябинск тех времен, когда на протяжении пяти лет ежедневно мы, тогдашние студенты, общались со своими учителями. С пожелтевших страниц смотрят знакомые лица, вызывая в памяти множество воспоминаний. Образы многих преподавателей тех лет несколько поблекли, многое не удержалось в памяти, но отдельные штрихи к их облику все еще сохраняются. Попытаюсь в этих эссе, хотя бы выборочно и без строгой хронологии и последовательности, воспроизвести черты тех, кто мне особо памятен.
 Среди преподавателей Киевского медицинского института в Челябинске, куда во время войны был эвакуирован институт, и в Киеве после возвращения в родные пенаты особенно часто – и это, кажется, традиция института – вспоминается профессор Михаил Сергеевич Спиров, заведовавший кафедрой анатомии. О его аскетической отрешенности от житейских дел, какой-то трогательной одержимости в преподавании анатомии среди нас, студентов, ходили легенды. Выпускники института военных лет передавали друг другу восхищенный рассказ – свидетельство очевидцев – о его эвакуации из Киева. В отличие от своих коллег-профессоров, отбывших в Челябинск обремененными всяческим домашним скарбом, багаж Михаила Сергеевича состоял, в основном, из анатомических препаратов. Среди них – пожелтевшие от времени человеческие кости черепа, позвонки, сочленения конечностей. Так и ехал до самого Челябинска старый профессор в окружении узлов с сухо постукивавшими в них костями, предназначенными для обучения студентов анатомии. Именно по ним на Урале осваивали в последующем студенты курс остеологии. В память на всю жизнь врезались латинские слова, зарифмованные в стихотворные строки, облегчающие усвоение сведений о височной кости. Вот этот плод студенческой изобретательности в доступной русской транскрипции: «Как на лямина криброза поселился кристо гали, впереди форамен цекум, сзади – ос сфеноидали».
Среди преподавателей Киевского медицинского института в Челябинске, куда во время войны был эвакуирован институт, и в Киеве после возвращения в родные пенаты особенно часто – и это, кажется, традиция института – вспоминается профессор Михаил Сергеевич Спиров, заведовавший кафедрой анатомии. О его аскетической отрешенности от житейских дел, какой-то трогательной одержимости в преподавании анатомии среди нас, студентов, ходили легенды. Выпускники института военных лет передавали друг другу восхищенный рассказ – свидетельство очевидцев – о его эвакуации из Киева. В отличие от своих коллег-профессоров, отбывших в Челябинск обремененными всяческим домашним скарбом, багаж Михаила Сергеевича состоял, в основном, из анатомических препаратов. Среди них – пожелтевшие от времени человеческие кости черепа, позвонки, сочленения конечностей. Так и ехал до самого Челябинска старый профессор в окружении узлов с сухо постукивавшими в них костями, предназначенными для обучения студентов анатомии. Именно по ним на Урале осваивали в последующем студенты курс остеологии. В память на всю жизнь врезались латинские слова, зарифмованные в стихотворные строки, облегчающие усвоение сведений о височной кости. Вот этот плод студенческой изобретательности в доступной русской транскрипции: «Как на лямина криброза поселился кристо гали, впереди форамен цекум, сзади – ос сфеноидали».
А теперь несколько запомнившихся историй, связанных с профессором Спировым.
История первая. Учился в нашем институте в Челябинске мой товарищ Лев Вайнтрауб, которого в те далекие студенческие годы мы звали просто Лёсиком. Он был отличным спортсменом и после войны успешно играл за сборную команду Украины по волейболу, затем был одним из тренеров гандбольной сборной. Студент мединститута, он, как огня, боялся препарирования трупов. Из-за этого студент и оставил учебу. Так вот именно его среди других студентов выделял профессор Спиров, часто обращаясь к нему на практических занятиях и при этом называя его не иначе, как «Вайнтруп». Нас, студентов, привела в восторг фраза Михаила Сергеевича, с которой он однажды обратился к нашему другу, фраза затейливая и с одному ему ведомым подтекстом. «Студент Вайнтруп, – сказал профессор, – пожалуйста, перенесите этот труп». Увидев замешательство студента, тут же добавил: «Скорее, скорее. Иначе это сделают без вас». Думается, он был искренне убежден в том, что все, связанное с работой в анатомическом театре (только так академично и уважительно он именовал помещение своей кафедры), весьма привлекательно. Бедный Лёсик Вайнтрауб, увы, был далек от такой «убежденности»...
История вторая. Она заслуживает того, чтобы ее содержание, простое и бесхитростное, было когда-либо воплощено в художественном рассказе. Представьте себе обледеневшие улицы сурового уральского города Челябинска в феврале 1942-го года. Сорокаградусный мороз. Раннее утро, еще царит сумрак уходящей ночи. Ветер со снегом. Переполненные дребезжащие трамваи. Толпы рабочих, втягивающиеся в ворота заводов, трубы которых уже коптят тяжелое серое небо. Из общежития преподавателей мединститута, расположенного в нескольких километрах от областной больницы, где разместилась одна из баз кафедры анатомии, бредет на работу профессор Спиров. Он в старом темном пальто с поднятым меховым воротником. Слезятся от холодного ветра воспаленные глаза.
В анатомичке только служитель, ожидающий прихода профессора, растапливает чугунную печь-«буржуйку». На мраморном столе аккуратно уложен труп, подготовленный служителем для вскрытия.
А вот и последующая впечатляющая картина. Над трупом склонившаяся фигура Михаила Сергеевича все в том же пальто, но в накинутом на него белом халате с бурыми пятнами. Уже рассвело, и сквозь рассеивающиеся тяжелые тучи пробиваются скудные лучи северного солнца. Профессор препарирует. Он крепко держит в замерзших руках скальпель и пинцет, отделяет от костей мышцы и сухожилия. В помещении прозекторской от еще не разогревшейся печки едва тепло. Почему-то то вспыхивает ярким светом, то гаснет включенный электрорефлектор. Зябко, холодно и неуютно. Занятый препарированием, Михаил Сергеевич ничего этого не замечает. Он до предела сосредоточен, его взгляд внимателен, лицо одухотворено. Бросается в глаза и как бы живет отдельно от лица его покрасневший от мороза нос. На его кончике то и дело появляется капля, напоминающая миниатюрный мыльный пузырь. Капля постепенно увеличивается в размерах, переливается всеми цветами радуги в пробивающихся лучах холодного солнца, а затем падает вниз на желто-белую поверхность препарируемого трупа. Сразу же вслед за первой появляется другая, обрывающаяся вниз, третья...
И вот, в самый разгар этого священнодействия в помещении кафедры почти одновременно появляются новые персонажи из числа здесь работающих. Это ближайшие помощники и соратники Михаила Сергеевича – доценты Кибальчич и Романкевич. Отряхивая с одежды и валенок снег, они поочередно заглядывают в прозекторскую. При этом один из них, кажется, Романкевич, саркастически вопрошает служителя: «Наш блаженный давно титрует?». Но в глазах и в голосе обоих и в том, какими они обмениваются репликами, надевая халаты и направляясь в препараторскую, явственно проглядывает почитание своего одержимого шефа.
Оба доцента – тоже личности. Отменные специалисты-анатомы, уважаемые студентами педагоги, к тому же острословы, люди внимательные и доброжелательные.
История третья. Читал лекции Михаил Сергеевич скучно. Каждая из них – сухой перечень латинских определений анатомических элементов с подробными комментариями, демонстрация анатомических препаратов и иллюстративных материалов. На лекции мы ходили все, стараясь их не пропускать, так как знали, сколь строг на зачетах и экзаменах профессор Спиров. Он был человеком педантичным и того же требовал на занятиях от студентов. Зачет и экзамен сдать ему было совсем непросто. Мой друг – Константин (в годы студенчества Котя) Кульчицкий трижды сдавал ему один из зачетов. При этом, выполняя персональное задание Михаила Сергеевича, он много и самостоятельно препарировал. Несмотря на это, и в первой, и во второй из своих попыток сдать зачет он сталкивался с обезоруживающей похвалой профессора, которая завершалась примерно так: «Мне было очень приятно вас выслушать, но я бы попросил нашу беседу перенести, с тем чтобы продолжить ее в следующий раз». Кто знает, может, именно эти «переносы», да еще и многомесячное самостоятельное препарирование в годы студенчества повлияли на решение моего друга стать анатомом. После окончания института он поступил в аспирантуру при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, затем успешно прошел путь от ассистента до заведующего этой кафедрой. Став профессором и блестящим лектором, Константин Иванович Кульчицкий нередко вспоминал, какую суровую школу он прошел, будучи студентом и осваивая избранную им в последующем анатомию. И до конца своих дней добрым словом вспоминал Михаила Сергеевича.
Да, профессор Спиров всегда оставался преданным анатомической науке и ее преподаванию. Ученик известного анатома В.Н.Тонкова, бессменный заведующий кафедрой анатомии Киевского медицинского института с 1930 года, он был в Ученом совете одним из наиболее уважаемых профессоров. В бытность свою студентом я многого о нем не знал. Например того, что страсть к препарированию началась у него еще со времен учебы и работы на факультете Московского университета, где он после окончания вуза сразу же занялся прозектурой. Затем работал прозектором в Военно-медицинской академии. Свою увлеченность препарированием он передавал и своим сотрудникам. Помню, с какой ювелирной точностью демонстрировали препарирование трупов в Анатомическом музее на ул. Мечникова А.А. Сушко, А.И. Свиридов, И.Е. Кефели, Л.В. Чернушенко. И с каким интересом и вниманием следил за этим процессом Михаил Сергеевич.
Легендарную его фигуру и обучение анатомии всегда помнят выпускники КМИ. Я присутствовал летом 1971-го года на встрече бывших зауряд-врачей, выпуск которых состоялся в 1941 году, после окончания военно-медицинских курсов перед самой эвакуацией института из Харькова в Челябинск. Пройдя суровую школу войны, спустя 30 лет они собрались в Киеве в морфологическом корпусе. Приехали свыше 300 человек, почти половина тех, кто поступил в институт в 1937 году. Без преувеличения и ложной патетики очень точно передал атмосферу той встречи А.А. Грандо – один из ее инициаторов, ныне заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, директор и фундатор уникального Музея медицины Украины. В своей книге «Путешествие в прошлое медицины» (Киев, 1995) он рассказывает о том, как встретили участники пришедшего к ним Михаила Сергеевича. Вот отрывок из упомянутой книги:
«Все вскочили с мест, овации долго не прекращались. Эти немолодые люди вдруг сбросили с себя груз прожитых лет и превратились в восторженных студентов, выражавших своему профессору искреннюю любовь и благодарность. И это несмотря на то что после сдачи курса анатомии прошло 33 года и что этот удивительный человек, без преувеличения, последний из могикан, при всем своем обаянии, скромности и деликатности был едва ли не самым строгим экзаменатором из всех, с кем нам приходилось сталкиваться в институте. Сколько было двоек, пересдач и снова двоек, сколько было пролито слез, когда Михаил Сергеевич очень мягко, как бы извиняясь, просил студента прийти к нему, как он говорил, «еще один раз». Увы, это далеко не всегда заканчивалось «еще одним разом». Тогда, до войны, перешагнуть через кафедру анатомии было для студентов величайшим событием.» И далее: «Вот этого профессора, несмотря на бесконечные двойки и пересдачи, больше всего помнили, любили и так восторженно встречали зауряд-врачи». Это было именно так.
История четвертая. Обстоятельства сложились так, что в пятидесятые годы Михаил Сергеевич оказался моим соседом по коммунальной квартире в доме 13 на улице Институтской. В этом доме, расположенном в районе, именуемом старыми киевлянами «Липки», проживали и другие сотрудники медицинского института – профессора Яков Павлович Фрумкин, Вера Михайловна Слонимская, Соломон Соломонович Каган, Сергей Исаевич Винокуров. В квартире на втором этаже наша семья (я, жена и двухлетний сын) занимала одну большую комнату. В двух небольших комнатах размещался Михаил Сергеевич, в трех других жила семья профессора Владимира Николаевича Хмелевского.
Михаил Сергеевич был неприхотлив. Будучи старым холостяком, он сам готовил пищу и убирал комнаты. Ел мало, вставал очень рано и рано ложился спать. Когда по вечерам шествовал по узкому коридору в туалет и встречал кого-либо из женщин, возвращавшихся из кухни, никогда в туалет не заходил, а с отрешенным выражением лица проходил мимо.
В квартире в те послевоенные годы было холодно, и Михаил Сергеевич ходил в пальто, наброшенном поверх домашней одежды. В его скромно обставленных, почти пустых комнатах всегда было тихо, и только в выходные дни, а иногда в предвечернее время раздавались звуки скрипки, на которой он играл незатейливые пассажи. Когда наш малолетний сын исчезал из комнаты, мы знали, что он в качестве благодарного слушателя находится у Михаила Сергеевича, где молча восседая на низкой скамеечке, внимает его скрипке. Признаюсь, что воспринимать музыкальные упражнения Михаила Сергеевича и мне, и жене, и нашим соседям было далеко не просто. Пассажи были пронзительные и однообразные. А вот для нашего маленького сына они, вероятно, были в радость, особенно, когда он занимал свое место постоянного слушателя в комнате музицирующего Михаила Сергеевича. Последний всегда нас предупреждал: «Прошу не беспокоиться, Владимир Исаакович находится у меня». Однажды я слышал, как вот так же, по имени и отчеству, после очередного музицирования он обращался к моему двухлетнему сыну.
Истинным интеллигентом был этот столь неприхотливый в быту, скромный в общении человек, анатом по призванию, учитель многих поколений выпускников КМИ.
 Мне посчастливилось учиться у знаменитых киевских клиницистов, одним из признанных лидеров которых был Николай Дмитриевич Стражеско, действительный член трех академий – Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, Академии наук УССР. Еще в 1923 году он возглавил кафедру диагностики, затем госпитальной терапии, а с 1929 по 1952 год заведовал факультетской терапевтической клиникой. Лекции студентам Николай Дмитриевич читал непостоянно: он был перегружен работой в клинике, консилиумами, консультациями. Но когда Николай Дмитриевич появлялся перед студенческой аудиторией, это всегда был для нас праздник. На всю жизнь остались в памяти его клинические разборы болезней демонстрируемых пациентов, логичная и убедительная постановка диагноза, строго аргументированное назначение методов и средств лечения.
Мне посчастливилось учиться у знаменитых киевских клиницистов, одним из признанных лидеров которых был Николай Дмитриевич Стражеско, действительный член трех академий – Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР, Академии наук УССР. Еще в 1923 году он возглавил кафедру диагностики, затем госпитальной терапии, а с 1929 по 1952 год заведовал факультетской терапевтической клиникой. Лекции студентам Николай Дмитриевич читал непостоянно: он был перегружен работой в клинике, консилиумами, консультациями. Но когда Николай Дмитриевич появлялся перед студенческой аудиторией, это всегда был для нас праздник. На всю жизнь остались в памяти его клинические разборы болезней демонстрируемых пациентов, логичная и убедительная постановка диагноза, строго аргументированное назначение методов и средств лечения.
Внешность академика Стражеско заслуживает отдельного описания. Благообразный и холеный, с шевелюрой, где уже густо доминировала проседь, с профессорской бородкой и всегда при жилете под пиджаком, с золотой цепочкой на животе, он одним своим впечатляющим видом успокаивающе действовал на больного. А когда в распахнутом белоснежном халате во главе свиты сопровождавших его врачей он входил в палату, а затем, не пользуясь стетоскопом, а, тесно приложив ухо к груди больного, выслушивал удары и тоны сердца, все в палате благоговейно замирали.
Клиническая школа Н.Д. Стражеско весьма представительная. Назову лишь профессоров, возглавивших затем кафедры в КМИ, и его опытных доцентов. Это – А.А. Айзенберг, Ф.Я. Примак, Я.С. Бениев, М.И. Франкфурт, следует вспомнить А.Л. Михнева, Д.Н. Яновского, Г.И. Тонконогова, Н.С. Заноздру – профессоров Института кардиологии имени Н.Д. Стражеско. Список, если его продолжить, получится весьма обширным.
 Другой крупный киевский терапевт – Вадим Николаевич Иванов – иного склада человек, иной клинической и научной школы. До 1958 года он возглавлял госпитальную клинику, которую затем передал профессору А.А. Айзенбергу, а сам же перешел на кафедру факультетской терапии. Кафедра располагалась на двух клинических базах, при одной из которых (больница водников) была организована научная проблемная лаборатория гастроэнтерологии.
Другой крупный киевский терапевт – Вадим Николаевич Иванов – иного склада человек, иной клинической и научной школы. До 1958 года он возглавлял госпитальную клинику, которую затем передал профессору А.А. Айзенбергу, а сам же перешел на кафедру факультетской терапии. Кафедра располагалась на двух клинических базах, при одной из которых (больница водников) была организована научная проблемная лаборатория гастроэнтерологии.
Взгляните на его портрет и вы увидите типичный облик дореволюционного профессора с проницательным взглядом и постоянной легкой усмешкой Человеком он был и ироничным, и добрым. Это ценили в нем как студенты, так и сотрудники кафедры. Читал лекции он весьма обстоятельно. Любил при обходах больных и их индивидуальном осмотре длинные монологи. Отличался тем, что представлял больным и врачам свои рекомендации, особенно по части режима и рациона питания, чрезвычайно образно и настолько красочно, что тут же вызывал у них соответствующие условные рефлексы. А достичь подобного эффекта, поверьте, было не так просто.
Среди сотрудников профессора Иванова помню ироничного Е.Б. Букреева – потомственного интеллигента и отличного клинициста. Студенты санитарно-гигиенического факультета, которые осваивали терапию на этой кафедре, души в нем не чаяли. Из поколения в поколение выпускников этого факультета передавались его шутки и остроты, в том числе и в адрес своего шефа. Кстати говоря, Евгений Борисович учился вместе с будущим писателем Михаилом Булгаковым. Высоко ценили студенты и других преподавателей этой кафедры – ближайших помощников Вадима Николаевича Иванова: А.П. Пелещука, Е.Л. Ревуцкого, Р.А. Меерсон, Н.М. Полисского. Под началом профессора Иванова работали Н.Ф. Скопиченко и Г.И. Бурчинский, возглавивший кафедру после смерти учителя. Под руководством В.Н. Иванова были выполнены в тот период оригинальные работы в области физиологии и патологии пищеварения, онкологии, рентгенологии.
Был Вадим Николаевич человеком своеобразным, с замашками профессора, знающего себе цену. На работу приезжал поздно, зато вечерами после напряженного рабочего дня бодрствовал допоздна. Любил вечерние телефонные разговоры с коллегами и друзьями. Никита Борисович Маньковский рассказывал мне, как часто почти в полночь звонил ему по телефону Вадим Николаевич и вел неспешный разговор не только на клинические, но и на житейские темы.
Чтобы немного отвлечь читателя от серьезной тональности своего повествования, приведу рассказ моей жены Лены, которая, будучи студенткой 5-го курса, слушала лекции Вадима Николаевича. Речь пойдет о курьезном случае. Как-то, читая лекцию, профессор Иванов (как всегда в строгом темном костюме и в тон ему элегантном галстуке) так увлекся, что разгорячился, и потянулся за носовым платком, чтобы вытереть вспотевшее лицо. Каково же было удивление и восторг студентов, когда в руках Вадима Николаевича вместо белоснежного платка оказался не менее белоснежный, но... бюстгальтер его жены. Причем, учитывая ее габариты, достаточно внушительного размера. Вот такой был рассеянный профессор.
Хотя Вадим Николаевич, будучи академиком и известным клиницистом, был близок с сильными мира сего (его широко привлекали к лечению руководителей разных рангов), он не злоупотреблял этим обстоятельством и всегда оставался порядочным человеком. Известно, сколь достойно повел он себя в ситуации, сложившейся в начале пятидесятых годов в связи с инспирированным «делом врачей». «Компетентным органам» не удалось получить от него экспертного заключения, которое подтвердило бы обвинение в адрес коллег. И еще. В период оккупации Киева он категорически отказался работать в «Полимедикуме» – учебном заведении, для которого был проведен набор студентов немецкими властями в сентябре 1942 года.
Я бывал у Вадима Николаевича в доме на Большой Житомирской улице, именуемом «домом врачей», и могу удостоверить: его доброжелательность и человечность в общении всегда вызывали к нему уважение и чувство большой симпатии. Когда прохожу по центральной аллее Байкового кладбища и вижу слева, недалеко от входа, установленный ему памятник, всегда думаю о том, что профессор Вадим Николаевич Иванов оправданно заслужил такую хорошую память о себе.
 Ефрем Исаакович Лихтенштейн представлял киевскую терапевтическую школу. Был он человеком примечательной внешности – большой лоб под отброшенной назад гривой седеющих волос, внимательные глубокие глаза с темными кругами под ними, красивый изгиб рта, тонкие черты лица. Облик настоящего интеллигента – всегда при галстуке, в белоснежной сорочке и сером отутюженном костюме. Киевский художник М. Туровский изобразил его наиболее точно. На его рисунке профессор Е. Лихтенштейн – мыслитель. Грустный взгляд устремлен вдаль, тонкая кисть с разведенными пальцами на крупном покатом лбе. Задумался Ефрем Исаакович. Таким я его и помню. Человек высокой общей культуры и большого клинического опыта, он был настоящим врачевателем – вдумчивым, тактичным, сопереживающим. Студенты любили его лекции, проникнутые вниманием к больным. Своим негромким голосом он, как бы рассуждая, повествовуя образным литературным языком, обращался к аудитории в целом и в то же время адресовал свои мысли каждому из слушателей о внутренних болезнях и лечении больных. Он любил повторять слова М. Мудрова о том, что лечить следует больного, а не болезнь, и в этом он видел обязательное и традиционное требование медицины. В своих очерках по проблемам медицинской деонтологии Ефрем Исаакович особо подчеркивал, что «нет никаких сомнений в том, что образование врача, занимающегося лечебной практикой, не должно и не может ограничиваться одним только комплексом профессиональных медицинских знаний. Им принадлежит, несомненно, важнейшее и первостепенное, но не единственное место. Врач должен быть гуманным и всесторонне образованным человеком». В своих лекциях и трудах он настойчиво внушал мысль о том, что для раннего и правильного распознавания болезни и, главное, для успешного лечения больного необходим доверительный контакт врача и пациента, проникновение, как он говорил, в сокровенные переживания и чаяния страдающего человека. Учитель Ефрема Исааковича, известный терапевт, академик Василий Харитонович Василенко в предисловии к книге своего ученика «Пособие по медицинской деонтологии» поделился с читателями мыслью о том, что ныне покойный Ефрем Исаакович Лихтенштейн с чистой совестью мог бы повторить и от своего имени слова знаменитого Сиденхема: «Никто не был пользован мною иначе, чем я желал бы, чтобы лечили меня самого...». И далее, повествуя о своем любимом ученике, В. Василенко замечает: «Может быть, в силу этого деонтологические взгляды автора изложены им столь искренне». Действительно – и об этом писал А. Грандо в очерке о Лихтенштейне – мало найдется трудов по деонтологии, которые можно было бы сравнить с книгой Е.И. Лихтенштейна, умело и убедительно использовавшего в деонтологических целях художественную литературу. Сказано справедливо. Ведь Ефрем Исаакович не только в первом издании упомянутого выше «Пособия», но и во втором дополненном издании, вышедшем после его ухода из жизни, под названием «Помнить о больном» широко обращался к творчеству таких выдающихся писателей, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, В.В. Вересаев, Г. Флобер, С. Цвейг, С. Моэм и других. Нельзя не согласиться с А.А. Грандо, как и с Ю.Н. Щербаком, написавшим к последней книге Ефрема Исааковича обстоятельное предисловие, в том, что работы Е.И. Лихтенштейна по деонтологии далеко выходят за ее рамки. В них тесно и органично сплелись медицина и литература.
Ефрем Исаакович Лихтенштейн представлял киевскую терапевтическую школу. Был он человеком примечательной внешности – большой лоб под отброшенной назад гривой седеющих волос, внимательные глубокие глаза с темными кругами под ними, красивый изгиб рта, тонкие черты лица. Облик настоящего интеллигента – всегда при галстуке, в белоснежной сорочке и сером отутюженном костюме. Киевский художник М. Туровский изобразил его наиболее точно. На его рисунке профессор Е. Лихтенштейн – мыслитель. Грустный взгляд устремлен вдаль, тонкая кисть с разведенными пальцами на крупном покатом лбе. Задумался Ефрем Исаакович. Таким я его и помню. Человек высокой общей культуры и большого клинического опыта, он был настоящим врачевателем – вдумчивым, тактичным, сопереживающим. Студенты любили его лекции, проникнутые вниманием к больным. Своим негромким голосом он, как бы рассуждая, повествовуя образным литературным языком, обращался к аудитории в целом и в то же время адресовал свои мысли каждому из слушателей о внутренних болезнях и лечении больных. Он любил повторять слова М. Мудрова о том, что лечить следует больного, а не болезнь, и в этом он видел обязательное и традиционное требование медицины. В своих очерках по проблемам медицинской деонтологии Ефрем Исаакович особо подчеркивал, что «нет никаких сомнений в том, что образование врача, занимающегося лечебной практикой, не должно и не может ограничиваться одним только комплексом профессиональных медицинских знаний. Им принадлежит, несомненно, важнейшее и первостепенное, но не единственное место. Врач должен быть гуманным и всесторонне образованным человеком». В своих лекциях и трудах он настойчиво внушал мысль о том, что для раннего и правильного распознавания болезни и, главное, для успешного лечения больного необходим доверительный контакт врача и пациента, проникновение, как он говорил, в сокровенные переживания и чаяния страдающего человека. Учитель Ефрема Исааковича, известный терапевт, академик Василий Харитонович Василенко в предисловии к книге своего ученика «Пособие по медицинской деонтологии» поделился с читателями мыслью о том, что ныне покойный Ефрем Исаакович Лихтенштейн с чистой совестью мог бы повторить и от своего имени слова знаменитого Сиденхема: «Никто не был пользован мною иначе, чем я желал бы, чтобы лечили меня самого...». И далее, повествуя о своем любимом ученике, В. Василенко замечает: «Может быть, в силу этого деонтологические взгляды автора изложены им столь искренне». Действительно – и об этом писал А. Грандо в очерке о Лихтенштейне – мало найдется трудов по деонтологии, которые можно было бы сравнить с книгой Е.И. Лихтенштейна, умело и убедительно использовавшего в деонтологических целях художественную литературу. Сказано справедливо. Ведь Ефрем Исаакович не только в первом издании упомянутого выше «Пособия», но и во втором дополненном издании, вышедшем после его ухода из жизни, под названием «Помнить о больном» широко обращался к творчеству таких выдающихся писателей, как Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.С. Тургенев, В.В. Вересаев, Г. Флобер, С. Цвейг, С. Моэм и других. Нельзя не согласиться с А.А. Грандо, как и с Ю.Н. Щербаком, написавшим к последней книге Ефрема Исааковича обстоятельное предисловие, в том, что работы Е.И. Лихтенштейна по деонтологии далеко выходят за ее рамки. В них тесно и органично сплелись медицина и литература.
Прекрасный врач, педагог и литератор, Ефрем Исаакович Лихтенштейн рано и трагично ушел из жизни. Сейчас, когда его уже нет среди нас, особенно явственно вспоминаю последние годы нашего частого общения. Так сложилось, что в шестидесятых – начале семидесятых годов он возглавил клинику профессиональных болезней, тесно связанную с кафедрой гигиены труда, где я тогда работал. Но мы не столько встречались по учебным делам, сколько, общаясь вне института, обсуждали проблемы жизни и литературы. Собеседником он был интересным, и общение с ним мне доставляло большую радость.
В последние два года он часто бывал замкнут, делился своими личными делами скупо, нередко в разговоре прорывались нотки печали, даже какой-то невысказанной тоски.
Помню, за несколько недель до трагической кончины он позвонил мне домой и посетовал, что мы мало встречаемся: «А так хочется поговорить по душам и о том, что наболело, и о том, в какое сложное время выпало нам жить, и о том, что делать дальше. Ведь не так уж много тех, с кем можно всем этим поделиться». Приведенные слова были последними, которые я от него слышал. В том же разговоре он сказал о том, как тоскливо ему сейчас. Эти слова я отчетливо вспомнил, когда мне сообщили невероятную новость: Ефрем Исаакович покончил с собой. Случилось это в 1973 году.
Я бережно храню его очерки и подарок, сделанный мне в день защиты докторской диссертации – настольный блокнот с посеребренной крышкой, на которой выгравированы буквы «ИМТ», а на первой странице – трогательная надпись: «Пускай, дорогой Исаак Михайлович, этот день двадцать третьего апреля сохранится не только в памяти Вашего сердца. Е.И. 23.VI.64 г.».
Я хотел бы закончить заметки о своем коллеге и друге Ефреме Исааковиче словами из послесловия Ю. Щербака к его посмертно изданной книге, в котором сказано, что большинство из тех многих тысяч врачей, кого он воспитал в родном его сердцу Киевском мединституте, «... покинули стены alma mater нравственно зрелыми людьми, в чем была немалая заслуга профессора Лихтенштейна».
 Имя Бориса Никитича Маньковского связано у меня не только с освоением курса нервных болезней во время учебы в институте, но еще и с тем, что семью Маньковских хорошо знали мои родители. А семья эта пользовалась в Киеве особым уважением и симпатией. Прежде всего потому, что высок был и широко известен врачебный профессионализм Бориса Никитича. Подстать ему были многочисленные его сотрудники и ученики. Он по праву возглавлял украинскую школу невропатологов, среди которых были такие опытнейшие клиницисты, как Вера Михайловна Слонимская, Яков Абрамович Минц, Александр Львович Духин – мой близкий товарищ и друг еще со студенческих лет. Студенты с большим уважением относились к Борису Никитичу и Вере Михайловне, которая была при нем бессменным профессором кафедры. Помню, как всегда внимательно, подробно и подчас эмоционально обсуждали они состояние больного, устанавливая совместно окончательный диагноз. Каждый из них по-своему читал лекции – Борис Никитич более живо, Вера Михайловна сугубо академично, но у обоих преобладало стремление привить студентам клиническое мышление. И это удавалось им в полной мере. Несколько лет назад, когда в большом конференц-зале Национальной Академии наук медицинская и научная общественность отмечала 100-летие покойного академика Б.Н. Маньковского. В докладах и воспоминаниях ему была отдана дань всеобщего признания за заслуги в области отечественной неврологии. Достойно продолжает развивать идеи и традиции отца мой близкий друг Никита Маньковский – блистательный клиницист, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии.
Имя Бориса Никитича Маньковского связано у меня не только с освоением курса нервных болезней во время учебы в институте, но еще и с тем, что семью Маньковских хорошо знали мои родители. А семья эта пользовалась в Киеве особым уважением и симпатией. Прежде всего потому, что высок был и широко известен врачебный профессионализм Бориса Никитича. Подстать ему были многочисленные его сотрудники и ученики. Он по праву возглавлял украинскую школу невропатологов, среди которых были такие опытнейшие клиницисты, как Вера Михайловна Слонимская, Яков Абрамович Минц, Александр Львович Духин – мой близкий товарищ и друг еще со студенческих лет. Студенты с большим уважением относились к Борису Никитичу и Вере Михайловне, которая была при нем бессменным профессором кафедры. Помню, как всегда внимательно, подробно и подчас эмоционально обсуждали они состояние больного, устанавливая совместно окончательный диагноз. Каждый из них по-своему читал лекции – Борис Никитич более живо, Вера Михайловна сугубо академично, но у обоих преобладало стремление привить студентам клиническое мышление. И это удавалось им в полной мере. Несколько лет назад, когда в большом конференц-зале Национальной Академии наук медицинская и научная общественность отмечала 100-летие покойного академика Б.Н. Маньковского. В докладах и воспоминаниях ему была отдана дань всеобщего признания за заслуги в области отечественной неврологии. Достойно продолжает развивать идеи и традиции отца мой близкий друг Никита Маньковский – блистательный клиницист, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии.
 Алексей Петрович Крымов руководил кафедрой факультетской хирургии с 1930 г. и до конца жизни (1954 г.). В 1945 году он был избран академиком Академии медицинских наук СССР. Внешне – типичный дореволюционный доктор, университетский профессор. Высокий, статный, с зычным голосом, красивой русской речью. Студенты с интересом слушали его разборы болезней, демонстрируемые на лекции хирургических больных, очень похожими на те, что проводил Н.Д. Стражеско, когда демонстрировал терапевтических больных. Помню белые, амфитеатром расположенные скамьи, на которых сидели студенты, и внизу на полукруглой площадке сухопарую фигуру Алексея Петровича в кресле – рядом с больным. Был он уже почтенного возраста, не оперировал, лекции студентам читал сидя. Своим обликом, как мне сейчас представляется, походил на профессора Полежаева из булгаковского «Собачьего сердца» в исполнении Е. Евстигнеева.
Алексей Петрович Крымов руководил кафедрой факультетской хирургии с 1930 г. и до конца жизни (1954 г.). В 1945 году он был избран академиком Академии медицинских наук СССР. Внешне – типичный дореволюционный доктор, университетский профессор. Высокий, статный, с зычным голосом, красивой русской речью. Студенты с интересом слушали его разборы болезней, демонстрируемые на лекции хирургических больных, очень похожими на те, что проводил Н.Д. Стражеско, когда демонстрировал терапевтических больных. Помню белые, амфитеатром расположенные скамьи, на которых сидели студенты, и внизу на полукруглой площадке сухопарую фигуру Алексея Петровича в кресле – рядом с больным. Был он уже почтенного возраста, не оперировал, лекции студентам читал сидя. Своим обликом, как мне сейчас представляется, походил на профессора Полежаева из булгаковского «Собачьего сердца» в исполнении Е. Евстигнеева.
Когда будучи студентом лечебного факультета и вынашивая, как и другие сокурсники, планы последующего приобщения к клинической медицине, я слушал лекции Алексея Петровича, то не придавал особого значения одному обстоятельству, которое видится мне сегодня весьма примечательным. Почти в каждой своей клинической лекции, сопровождаемой, как сказано выше, демонстрацией больных, профессор Крымов обращал наше внимание на обязательные меры профилактики той или иной формы патологии, которая потребовала из-за отсутствия таковых оперативного вмешательства. Поразительно, но именно хирург от Бога, клиницист по призванию был столь привержен идее профилактики. Впрочем, подобная профессиональная черта – наследие земской медицины. И уже в более поздние годы, возвращаясь мысленно к годам учебы и вспоминая напутствия Алексея Петровича и других корифеев, я не раз поражался тому, что провозглашал великий отечественный хирург Николай Иванович Пирогов: «Будущее принадлежит медицине предупредительной». Недавно ушедший из жизни наш почитаемый современник, блистательный хирург и клиницист, мудрый Николай Михайлович Амосов в своих уникальных трудах – научных и публицистических – не переставал повторять мысль о том, что мы, увы, только говорим о профилактике, а на деле не реализуем подобные призывы. Кстати, особенно остро все мы нуждались в претворении идей профилактической медицины в практику повседневной жизни именно в послевоенные годы. И поэтому наши учителя в тот период на деле стремились (и небезуспешно) решать эту задачу. Примечательно, что идеи предупреждения болезней и утверждение, составляющее их основу, – «легче предупредить болезнь, чем ее лечить», – явственно звучали в те годы на форумах медиков, представляющих все три ветви медицины – теоретическую, клиническую, профилактическую.
Всех ближайших помощников Алексея Петровича сейчас и не вспомню. Но, перебирая в памяти тех, кто работал с ним на кафедре факультетской хирургии до того, как ее возглавил молодой хирург из Донецка Игнат Михайлович Матяшин (у меня с ним сложились дружеские отношения), могу назвать И.Г. Туровца, М.П. Постолова, В.Г. Збановского, Н.П. Морозову, К.А. Музыку. Иосиф Григорьевич Туровец впоследствии возглавил кафедру хирургии санитарно-гигиенического факультета. В разные годы этой кафедрой, учрежденной в 1934 г. и являющейся базой для преподавания общей, факультетской, госпитальной и военно-полевой хирургии, руководили Б.М. Городинский (1941-1944 гг.), а затем (1953-1956 гг.) – Н.М. Амосов.
Серьезной была кафедра Алексея Петровича Крымова и в прошлом, и в настоящем. Работал в ее стенах, кроме Игната Матяшина, рано ушедшего из жизни, Юрий Мохнюк – верный ученик Н.М. Амосова. Несколько лет ее возглавлял талантливый хирург Юлий Балтайтис. Сейчас кафедрой заведует опытный клиницист, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Михаил Захараш.
Продолжение в следующем номере.
- Категорії статей
- Інвалідність
- Інфекційні захворювання
- Акушерство, гінекологія, репродуктивна медицина
- Алергія
- Варікоз
- Гастроентерологія
- Гепатологія
- Головний біль
- Депресія. Психотерапія
- Дерматокосметологія
- Дитяча і підліткова гінекологія
- Дитяче харчування
- Ендокринологія. Цукровий діабет
- Кардіологія
- Мамологія
- Надлишкова вага. Дієти
- Неврологія
- Онкологія
- Отоларингологія
- Офтальмологія
- Проктологія
- Пульмонологія, фтизіатрія
- Стоматологія. Захворювання порожнини рота
- Травматологія і ортопедія
- Урологія і нефрологія
- Школа здоров'я
- Щеплення


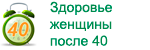
 Кровь на онкологию
Кровь на онкологию
 Лечение хронической боли: что должен знать терапевт?
Лечение хронической боли: что должен знать терапевт?
 Boehringer Ingelheim: революционное открытие в онкологии
Boehringer Ingelheim: революционное открытие в онкологии
 Что является причиной рака яичников и как себя уберечь
Что является причиной рака яичников и как себя уберечь