Мятежность духа и постоянство поиска

Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии (ИЭПОР) им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины. Третий этаж нового корпуса. Отдел физико-химических механизмов сорбционной детоксикации. Каждый день сюда спешит доктор
 Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии (ИЭПОР) им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины. Третий этаж нового корпуса. Отдел физико-химических механизмов сорбционной детоксикации. Каждый день сюда спешит доктор медицинских наук, профессор Владимир Григорьевич Николаев. Как и для многих, кто занят любимым делом, для него работа — второй дом.
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии (ИЭПОР) им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины. Третий этаж нового корпуса. Отдел физико-химических механизмов сорбционной детоксикации. Каждый день сюда спешит доктор медицинских наук, профессор Владимир Григорьевич Николаев. Как и для многих, кто занят любимым делом, для него работа — второй дом.
В. Г. Николаев — личность неординарная: ученый — по призванию, лидер — по характеру, человек — мятежный, обуреваемый порой нестандартными и даже чудными идеями. И ладно бы сам таким был, но жизнь так складывалась, что рядом постоянно оказывались похожие люди. Как он сам говорит, оригиналы в своем роде.
В Институте проблем онкологии НАН Украины (ныне — ИЭПОР им. Р. Е. Кавецкого НАН Украины. — Авт.) Владимир Григорьевич работает около 35 лет, он пришел туда молодым и зеленым, хотя уже занимался разработкой искусственных органов под руководством профессора В. Д. Янковского.
— Мы работали над аппаратом искусственного кровообращения, оксигенаторами, способами запуска сердца после его остановки, в общем, работали на кардиохирургию и реаниматологию. Что-то получалось, что-то так и осталось теорией. Я был хорошо знаком с академиком Н. М. Амосовым, к которому попал еще 19-летним мальчишкой со своим первым прожектом, он хорошо меня принял, мы дружили более сорока лет, до последних дней его жизни. Амосов — яркая, неординарная личность. Но о нем много сказано, написано, а вот о профессоре Всеволоде Дмитриевиче Янковском известно немногим. Кстати, говоря о В.Д. Янковском, нельзя не сказать еще об одной легендарной личности — о профессоре Сергее Сергеевиче Брюхоненко.
Опередившие время
Будучи студентом, В. Г. Николаев был тесно связан с отделом космической физиологии, которым руководил академик Николай Николаевич Сиротин, имевший уникальное свойство характера — приближать к себе людей оригинальных. В их числе оказалась группа ученых, возглавляемая профессором В. Д. Янковским, которые активно занимались оживлением организма после сверхдлительных сроков клинической смерти. Тогда считалось, что при клинической смерти мозг погибает через 5 минут. Они же экспериментально доказывали, что длительность этого срока составляет 15-20 минут. Собаку небольших размеров в состоянии клинической смерти клали рядом с крупным донором и при помощи специальной насосной системы перекачивали кровь из здорового организма к умершему и обратно. Иногда донора заменяли система искусственного сердца — автожектор Брюхоненко и система противоточных крупнопузырчатых легких — конструкция Янковского.
— В то время не все знали, что такие эксперименты имеют достаточно глубокие корни. Откуда появился Янковский? Дело в том, что в 1930 году Сталин организовал в Москве закрытый НИИ, заметьте, не научно-исследовательский, а научно-изобретательский институт, на который была возложена особая миссия — работа над проблемой индивидуального бессмертия. Он просуществовал почти десять лет, руководили институтом посменно два ученых, два друга — Сергей Сергеевич Брюхоненко и Всеволод Дмитриевич Янковский. Лидером, конечно, был С. С. Брюхоненко. Сам Всеволод Дмитриевич неоднократно повторял: я — просто талантливый ученый, а Сергей Сергеевич — гений. Это было истинной правдой.
Сын профессора механики, врач С. С. Брюхоненко, потерявший жену и сына во время эпидемии сыпного тифа, в дальнейшем разработал оригинальный метод лечения этой тяжелой болезни. Кроме врачебного таланта, он имел талант конструкторский. Создателем автожектора, первой в мире работающей системы «искусственное сердце», был именно С. С. Брюхоненко. Разобравшись в его последней модели автожектора, разработанной в начале 50-х годов, я был в полном изумлении. Для управления этой сложной машиной Брюхоненко использовал практически все элементы пневмокибернетики и пневматики, которой в те годы еще не существовало!
С. С. Брюхоненко слыл блестящим музыкантом. Его друг Генрих Нейгхауз, чрезвычайно строго относившийся к культуре музыкального исполнения, мог слушать импровизации Сергея Сергеевича часами. И какие это были импровизации! Представьте, одной рукой он играет «Интернационал», а другой — «Боже царя храни», и эти два, мягко говоря, различных музыкальных произведения сливаются в потрясающей гармонии.
Обычно у таких уникальных ученых имеются не только нереализованные грандиозные изобретения, но и разные теоретические выкладки, которые им просто недосуг внедрять в практику. Много ли было сделано учеными, работающими вместе с Брюхоненко, на основе его идей?
— Хороший вопрос. Дело в том, что Сергей Сергеевич Брюхоненко был в науке абсолютным анархистом. Какие только идеи не выдвигались в возглавляемом им институте и в его лаборатории! Вне плана его сотрудники занимались стереогеометрией цвета, что, в конечном счете, повлекло за собой создание совершенно оригинальной советской системы стереокино.
Из этой же лаборатории вышел академик Владимир Неговский, который из брюхоненковских прожектов и гениальных фантазий взял то, что можно применить в практических условиях. Когда Брюхоненко прекратил заниматься проблемой оживления, Неговский долгое время работал над вопросом реанимации при клинической смерти больных путем искусственного дыхания, нагнетания крови в артерии, массажа сердца и т. д. Интересно, что еще в 1931 году профессор Теребинский, используя технику Брюхоненко, впервые в мире прооперировал собаку на «сухом сердце» с применением искусственного кровообращения, что американцы смогли осуществить только через 15-16 лет.
Помните, «Голову профессора Доуэля» А. Беляева? Так вот, в основу этого произведения положен реальный научный факт. В 1925 году на конгрессе физиологов при огромном стечении народа была продемонстрирована отделенная от тела голова собаки, соединенная с автожектором Брюхоненко. Голова облизывалась, моргала глазами, словом, всем своим видом показывала, что она живая. Это направление развивал еще один последователь Сергея Сергеевича — А. Демихов, подсаживающий собакам вторую живую голову, у которого в свое время стажировался Крис Бернар — первый кардиохирург, пересадивший сердце. Видите, как все взаимосвязано.
Думаю, не зря профессор С. С. Брюхоненко, удостоенный посмертно Ленинской премии, в списке лауреатов числился один. Кстати, это единственный в истории советской науки случай, обычно у нас много желающих доказать свое причастие к заслугам ушедшего из жизни большого человека. В тот раз, по слухам, В. Д. Янковский принципиально отказался выдвигаться на Ленинскую премию, сказав, что его работа, конечно, достойна награды, но не в одном списке с таким великим ученым, как профессор Брюхоненко.
А каковы заслуги профессора В.Д. Янковского?
— До конца 70-х годов в мире в 80% случаев использовали принцип искусственных легких, предложенный Всеволодом Дмитриевичем, — крупнопузырчатые противоточные оксигенаторы. Янковский и его жена, талантливый химик А. И. Рекашева, создали аналог современного гепарина, который, к сожалению, после выявления у него некоторой эмбриотоксичности так и не был доведен до ума. На самом деле, это был очень мощный препарат.
Оба эти ученые — люди чрезвычайно интересные. С Брюхоненко лично я, к сожалению, знаком не был. Но хорошо знал его вдову, Ангелину Ивановну, мы с ней дружили, я имел доступ к научным работам Сергея Сергеевича, к его дневникам. С Янковским довелось поработать. Всеволод Дмитриевич имел квартиру на первом этаже в доме, где в свое время жил академик А. А. Богомолец, держал двух чудесных собак, поскольку был знаменитым охотником. Я посещал его дом, обстановка в нем была несколько богемная. Долгие годы у Янковского жила его домоуправительница тетя Маруся, добрейшей души женщина, которая по старинке, хотя уже была середина 60-х годов, называла Янковского барином. Она чудесно готовила добытую профессором дичь и любила рассказывать разные истории. Например, как, приезжая из Москвы, С. С. Брюхоненко говорил Янковскому: «Бежать нужно, Сева, отсюда, дела тут не будет». А он ему отвечал: «Куда же мы, Сережа Сергеевич, побежим? Разве в Европе такая охота будет»? Такие вот были люди! Когда меня избрали президентом Всемирного конгресса по искусственным органам в 1992 году, я хотел посвятить этот конгресс памяти Брюхоненко и Янковского, но Союз распался, наши возможности резко сократились, и место проведения конгресса было перенесено из Киева в Амстердам.
В лабиринте научных идей
Спектр научных интересов самого В. Г. Николаева — самый разнообразный. Поначалу молодого ученого, который стихийно «ворвался» в исследовательскую жизнь Института проблем онкологии НАН Украины сразу по окончании аспирантуры Луганского государственного медицинского института, буквально штормило от зарождающихся идей. Он работал над применением математических методов в медицинских и биологических исследованиях, позже стал заниматься адъювантными, то есть вспомогательными методами терапии рака. Работа шла хорошо, но чего-то мятущейся душе Владимира Николаева все же недоставало.
— Мы получали очень неплохие результаты, но строго относились к собственным разработкам, многое отбрасывали, оставляя только то, в успехе чего были совершенно уверены. Но если уж получалось, то дальше мы действовали в соответствии со знаменитой наполеоновской фразой: «Пушки вперед и марш, марш на Брюссель!».
Пришло время, когда научный мир заговорил о возможностях применения сорбционных методов детоксикации. Я сразу ухватился за эту идею, понимая, что она может многое перевернуть в медицине. В Москве над этой темой уже работали, взяв за основу идею греческого нефролога Ятцидиса, который приводил любопытные данные о лечении больных с печеночной и почечной недостаточностью и острыми отравлениями путем пропускания крови через технический активированный уголь. Правда, при этом он умалчивал об отрицательных последствиях.
В начале 60-х годов московские коллеги во главе с академиком Ю. М. Лопухиным пошли по пути греческого ученого, получив не только важнейшие результаты, но и множество осложнений. В то время на Западе, во избежание побочных реакций, поверхность углеродных сорбентов стали покрывать полимерными пленками, но здесь тоже ждала неудача. Биосовместимость с кровью улучшалась, но сужался спектр действия, и применение покрытых сорбентов оказалось весьма ограниченным.
А какие шаги предприняли украинские ученые?
— В Институте физической химии в то время работали хорошие специалисты по углеродным адсорбентам под руководством профессора Д.Н. Стражеско, сына известного кардиолога, блестящего исследователя, очень интересного и своеобразного человека. Его команда и создала первую серию углеродных сорбентов с очень гладкими поверхностями, которые можно было приводить в прямой контакт с кровью, применять без покрытий и без особых негативных последствий. Мы, в свою очередь, обеспечивали медико-биологическую часть этой работы.
Поддержку со стороны руководства Института вы чувствовали?
— Несомненно. В ту пору директором Института был академик Ростислав Евгеньевич Кавецкий. Он поддерживал меня на всех этапах деятельности, поскольку видел мой интерес к науке и то рвение, с которым я брался за новое дело.
Какие воспоминания у вас сохранились о Р. Е. Кавецком?
— Самые теплые. Я его знал уже в преклонном возрасте, но впечатление он производил просто потрясающее. Это человек, которому, как птичке в родное гнездо, всегда хотелось принести в Институт что-то новое, поведать нам о том, что узнавал сам. Он всегда радовался новинкам и умел поворачивать малоизвестный факт таким образом, чтобы тот нашел свое место в контексте мировой науки. Работать с ним было просто здорово.
Ростислав Евгеньевич обладал очень важными человеческими качествами. Например, если сотрудник приходил жаловаться на кого-то из коллег, пусть и совершенно справедливо, он терял в глазах Кавецкого ровно столько, сколько и тот, на кого он жаловался. Это — изумительный принцип, который и поныне сохранился в нашем Институте.
«Золотой ключик» в руках
Заболев идеей применения сорбционных технологий, В. Г. Николаев познакомился с известным ученым-химиком Владимиром Васильевичем Стрелко, ныне академиком НАН Украины, директором Института сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины. Они стали работать вместе, сначала разрабатывая кремниевые сорбенты, затем — углеродные. С точки зрения перспектив на будущее, углеродные сорбенты В. Г. Николаев считал предпочтительнее.
— Я прекрасно помню наш первый непокрытый углеродный сорбент — СУГС, который был получен в 1975 году. Когда нам удалось получить гладкие сферы, я сразу воскликнул: «Это то, что нужно, давайте с этим работать!».
Именно при использовании СУГСа были получены сенсационные результаты при лечении лучевой болезни?
— Да, мое любопытство и либерализм академика Р. Е. Кавецкого позволяли работать сразу в нескольких направлениях, постоянно вести поиск. Мы не стеснялись докладывать Ростиславу Евгеньевичу и президенту Академии Борису Евгеньевичу Патону даже о самых сырых результатах, поскольку чувствовали дружелюбное их отношение и колоссальную поддержку. Это очень важный момент.
Среди нескольких направлений, которыми мы занимались, большой интерес вызывала острая лучевая болезнь. Эту проблему в то время разрабатывал не очень признанный в официальных кругах профессор Александр Михайлович Кузин. Он — автор метаболической теории лучевой болезни, согласно которой луч, проходя через живую ткань, оставляет после себя шлейф метаболитов, которые атакуют геном ДНК. Необходимо было удалить эти допоражающие факторы.
Что было в наших руках? Очень мощные сорбционные системы, «кузинская» идеология, экспериментальная база Людмилы Борисовны Пинчук с выверенными моделями и необыкновенная наша с ней уверенность в том, что мы ведем поиск в правильном направлении. В результате, изучая лучевую болезнь на разных стадиях у собак, производя им очистку крови и переливая солевые растворы, мы выяснили, что эта схема оказывается эффективной в первые 24 часа после облучения, обеспечивая до 80% выживаемости.
Сегодня Владимир Григорьевич охотно вспоминает, с какой гордостью они с академиком Кавецким пришли к Б. Е. Патону сообщить о первой удаче — две с половиной выживших собак (одна сбежала на седьмой день эксперимента без каких-либо признаков заболевания) с острой лучевой болезнью, а ведь дозы облучения были абсолютно смертельными. Президент Академии настолько был впечатлен полученными данными, что вопреки всем традициям назначил молодого ученого, кандидата медицинских наук, заведующим отделом. Заметив при этом, что для того он и президент, чтобы хоть иногда нарушать общепринятые правила.
— Борис Евгеньевич очень хорошо разбирался в вопросах стратегии. Когда я приходил к нему с какими-то мелкими вопросами, он ругался, говорил, что у меня в руках «золотой ключик», и надо только искать замки, куда его вставить, а я занимаюсь непонятно чем. Но всегда поддерживал. Нагрузка у меня была такая, что докторскую диссертацию я сумел защитить только через десять лет. Причем защита происходила в Москве по докладу, без написания «кирпича». За всю историю медицины это был второй случай подобной защиты докторской.
Результаты, полученные нашим отделом, вскоре заинтересовали военных. Сообщение о высокой выживаемости собак в эксперименте мы направили в закрытый «Бюллетень радиационной медицины» на имя академика Л. А. Ильина. Однако из Москвы пришел ответ: ничего секретного данная информация не содержит, ее можно публиковать в открытой прессе. Но мы не рискнули, ведь в те годы любые медицинские новации считались оружием второго рода, поэтому результаты были опубликованы в секретном сборнике Генерального штаба. Наверное, в чем-то мы при этом выиграли, а в чем-то и проиграли. Интересно, что, когда спустя 17 лет сообщение об этих опытах мы предложили для публикации известному международному журналу, его разместили в рубрике «Мысли и прогресс».
Как вы считаете, почему ваши результаты сразу не заинтересовали такого известного ученого, как Л. А. Ильин?
— Леонид Андреевич — человек столь же талантливый, сколь и амбициозный. Он — директор Института биофизики, в котором были сосредоточены все основные научные направления в области радиационной медицины, при Институте существовала клиника. Естественно, ему трудно было поверить, что их кто-то опередил. Однако, когда Л. А. Ильин познакомился с директором Приднепровского химического завода Ю. Ф. Коровиным, выпускавшим наши сорбенты, а тот подробно рассказал о применении гемосорбции в лечении лучевой болезни, Леонид Андреевич приказал своим сотрудникам все перепроверить. И наши результаты подтвердились. Потом мы с Ильиным сдружились. Человек он необычайно колоритный, замечательный рассказчик. До сих пор помню его рассказы об интересных людях, их судьбах. Кстати, именно от него я впервые услышал, что Есенин не покончил жизнь самоубийством, а ему в этом помогли. Ближайшим помощником Леонида Андреевича был член-корреспондент АМН СССР Е. Ф. Романцев, который обладал уникальными актерскими способностями. По настойчивой просьбе он мог на 15 секунд закрыть руками лицо, а когда открывал, то у него из глаз текли слезы. Интересная команда работала в Москве.
На переднем крае
В отделе, руководимом В. Г. Николаевым, разрабатывались новые и новые поколения сорбентов. После СУГСа пришла очередь сорбентов под названием СКН, которые были запущены в массовое производство. Общесоюзная исследовательская программа, которая велась по проблеме острой лучевой болезни, обеспечивалась именно этими высокоэффективными сорбентами. Профессора В.В. Стрелко и В.Г. Николаев за разработку этих гемосорбентов были удостоены Государственной премии СССР.
Владимир Григорьевич, в каких случаях при лучевом поражении гемосорбция имеет практическое значение?
— При массовой ядерной атаке об эффективности сорбционных методов, конечно, говорить не приходится. Но когда речь идет об авариях на атомных станциях, о ядерном терроризме, что сегодня актуально, когда вокруг очага поражения сохранена медицинская инфраструктура, применение этого метода может сыграть огромную роль.
И, конечно, здесь следует упомянуть об аварии в Чернобыле…
— Чернобыль… Ни одна наша разработка в области сорбционной очистки крови не была так раскручена практически и по механизмам действия, как лучевая. К сожалению, молчание, секретность и неразбериха, которые царили в первые дни после взрыва на ЧАЭС, работали против нас. О том, что происходит реально, я узнал через 52 часа после аварии. Вместе с начальником медицинской службы КГБ М. П. Захарашем мы пытались получить более подробную информацию, чем та, что приходила официально. Мы понимали, если следовать инструкциям и нашим экспериментальным данным, то время ушло, 52 часа — это очень много. С другой стороны, радионуклиды из организма никуда не ушли, внутреннее облучение пострадавших продолжалось, и с этой позиции мы начали действовать.
Клиникой Института экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии в те годы заведовала профессор Инна Владимировна Касьяненко, признанный специалист в области комбинированной терапии рака. Именно эта клиника, а также госпиталь КГБ приняли на себя самый тяжелый контингент лиц, которые работали в Чернобыле в первые часы катастрофы. В ИЭПОР госпитализировали приблизительно 120 человек.
— К нам чернобыльцы начали поступать в тот самый апрельский вечер, когда мы увидели, что радиационный фон в Киеве выше, чем в хранилище изотопов. Они поступали ситуационно — немытые, несортированные, их разместили на трех этажах клиники. Вспоминая то время, я думаю, насколько грамотно была организована помощь, насколько хладнокровно специалисты нашего Института вели себя в экстремальных условиях. Если со мной работала «тертая» команда, получившая закалку в военных госпиталях во время афганской войны, то штатские врачи, впервые столкнувшись с подобной ситуацией, проявляли просто незаурядное мужество и самообладание. Помню, профессор И. В. Касьяненко собрала персонал и сказала: «Поскольку лучевую болезнь мы лечить не умеем, будем относиться к этим больным, как к онкопациентам, получившим передозировку химиотерапевтических средств». Блестящая мысль! Мы со своими сорбентами тоже включились в эту схему оказания помощи.
Поначалу мы чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Минздрава в первые четыре дня аварии словно не существовало. Оттуда только пришло указание — всем ставить диагноз «острый лейкоз», что повергло нас в панику — это же смертельное заболевание. Первыми к нам наведались военные, главный радиолог Вооруженных Сил СССР, академик Г. А. Алексеев, он помог рассортировать больных, один из которых оказался безнадежным — получил 3,5 тысячи рентген. Это был, пожалуй, самый печальный момент. Зато как мы радовались, когда у одного из пациентов перепутали бета-ожоги с аллергией. Через пару дней прибыли представители союзного Минздрава и Института биофизики. Один из них очень удивился, что мы работаем с этим контингентом больных без масок и перчаток, а мы в ответ — дозиметр за окно; глянул он на шкалу и надолго замолчал.
Многое вспоминается о тех трагических днях. За окнами — низкие тучи, сильный ветер, а в клинике — работа днем и ночью. Пять суток мы оттуда не выходили, профессор Д. Ф. Глузман буквально глаза «сломал», просматривая препараты крови. Но, слава Богу, больные выжили, погиб только один. В госпитале КГБ специалисты под руководством М. П. Захараша тоже прекрасно справились со своей задачей. Кстати, я абсолютно уверен, что еще многих пострадавших удалось бы спасти, если бы московские коллеги пользовались теми же схемами. Однако метод интенсивной сорбционной терапии при лучевых поражениях был заменен авантюрой Гейла с пересадкой костного мозга, и все закончилось трагически.
Неугомонный ученый
На будущее своего направления профессор В. Г. Николаев смотрит в высшей степени оптимистично. Канули в лету средства и методы, с которых начинал он сам и его коллеги. То, чем располагает сорбционная медицина сейчас, абсолютно ново и эффективно, что не просто радует, а будоражит мысль и заставляет продолжать поиск.
Уже много лет Владимир Григорьевич увлечен моделью «искусственной печени». Еще в 1983 году в международном журнале по искусственным органам он опубликовал свою первую статью на эту тему. Модель создали, она успешно прошла испытания в клинике известного хирурга, профессора В.С. Земскова, к сожалению, уже покойного. Там же были разработаны технологические системы: «искусственная печень — 1», «искусственная печень — 2» и «искусственная печень — 3».
— Впервые в мире нам удалось создать систему под названием «искусственная печень — 1», которая эффективно удаляет компоненты желчи прямо из крови больного. Но особенно мы обрадовались, когда специалисты детской областной больницы г. Донецка, позаимствовав у нас элементы «искусственной печени», применили их у детей с тяжелой полиорганной недостаточностью вследствие отравления бледной поганкой, снизили смертность среди них с 60 до 11% (!).
Только не скажите, что, создав систему «искусственной печени», вы остановились в растерянности, а что же делать дальше?
— Конечно, есть еще нереализованные планы. Думаю, например, о создании эффективной «искусственной кожи», что вполне реально, учитывая достаточно богатый опыт нашего отдела в сорбционной терапии ожогов. Хочется создать мультиточечный или многоцелевой сорбент для лечения сепсиса. Эта проблема — настоящий вызов цивилизации, ведь последние 20 лет, несмотря на все усилия специалистов, смертность от септического шока не снижается. Так что нам есть над чем работать.
- Категорії статей
- Інвалідність
- Інфекційні захворювання
- Акушерство, гінекологія, репродуктивна медицина
- Алергія
- Варікоз
- Гастроентерологія
- Гепатологія
- Головний біль
- Депресія. Психотерапія
- Дерматокосметологія
- Дитяча і підліткова гінекологія
- Дитяче харчування
- Ендокринологія. Цукровий діабет
- Кардіологія
- Мамологія
- Надлишкова вага. Дієти
- Неврологія
- Онкологія
- Отоларингологія
- Офтальмологія
- Проктологія
- Пульмонологія, фтизіатрія
- Стоматологія. Захворювання порожнини рота
- Травматологія і ортопедія
- Урологія і нефрологія
- Школа здоров'я
- Щеплення


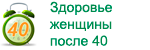
 Что делать, если беременность возможна, но нежелательна?
Что делать, если беременность возможна, но нежелательна?
 Дисбактериоз кишечника у детей раннего возраста
Дисбактериоз кишечника у детей раннего возраста
 Гипогалактия, ее причины и профилактика
Гипогалактия, ее причины и профилактика
 Обрезание – это приговор врачей, дань традиции или сознательный выбор?
Обрезание – это приговор врачей, дань традиции или сознательный выбор?